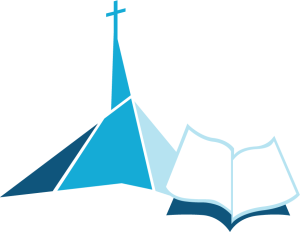📗 [RU] 2. Предварительное чтение2: Герхард фон Рад "Пророческое Послание"
This book "The message of the Prohvets" you can read in our library in English.
1. На первом этапе, несомненно, рассказывались истории о пророках, и в этом отношении истории о Елисее впечатляют событиями происходящими в далеком прошлом. С другой стороны, те самые соображения, на которые мы только что обратили внимание, должны предостеречь нас от того, чтобы эти популярные истории о чудесах привели нас к формированию слишком наивного представления об этом пророке, каким он был на самом деле. Он читал официальные лекции ученикам (II Царств 4:38; 6.1). Если бы у нас был сборник его лекций или изречений, наше представление о нем вполне могло бы быть иным. То же самое можно сказать и об Илии.
Однако ко времени Амоса люди научились воспринимать слова пророка обособлено от личности пророка и записывать их. Это означало, что центр тяжести в пророческой традиции теперь переместился с рассказа о пророке на сбор и передачу его изречений.
Однако такое развитие событий не привело к исчезновению обычая рассказывать истории о пророках или, более того, к какому-либо упадку такой практики. Эта литературная категория по-прежнему оставалась влиятельной, поскольку, придя к более духовному пониманию пророчества, Израиль никогда не заходил так далеко, стремясь свести пророческое послание к идеальным истинам, чтобы оторвать его от изначальных корней в конкретных событиях. Напротив, она никогда не переставала видеть каждого из пророков в его собственной исторической ситуации, либо как того, кто инициировал исторические движения, либо как того, кто был стерт в порошок в конфликтах истории.
Наибольшее количество рассказов о пророке содержится в книге Иеремии, которая является сравнительно поздней. Когда мы перейдем к ней, нам придется рассмотреть их значение как дополнения к пророчествам самого Иеремии.
Читая пророков сегодня, мы, конечно, должны понимать, что то, что нас интересует в первую очередь, - биографические подробности - привносит в эти истории точку зрения, чуждую им самим. Даже представление о «пророческих личностях», которое так легко приходит нам в голову, очень далеко от того, что предлагают нам сами источники. По всей вероятности, писатели были гораздо менее заинтересованы в том, чтобы изобразить пророка как «личность», то есть как уникальное человеческое существо, обладающее особыми качествами ума и духа, чем мы думаем. То же самое можно сказать и об интересе к биографическим подробностям. Мы даже можем почувствовать, что источники выступают против любых попыток описать «жизни» пророков. Если бы автор Амоса (7.1 и далее) имел намерение рассказать о жизни самого Амоса, он никогда бы не закончил свой рассказ так, как он это делает, и не сообщил бы читателю, выполнил ли пророк приказ о его изгнании или нет. Если читать этот отрывок как фрагмент из биографии, то единственным возможным вердиктом для такой концовки будет «неудовлетворительно». Амос здесь описан только с точки зрения того, что он пророк, то есть носитель должности, и потому у писателя не было никакого интереса, кроме описания столкновения носителя пророческого дара со священником и записи пророчества об обреченности, к которому это привело.
Истории об Илии, Елисее и Исайе также являются примерами отсутствия интереса к биографическим подробностям и сосредоточенности на том, как пророк действовал в соответствии со своим призванием. Изменения происходят с Иеремией. Иеремия-человек и его Via Dolorosa (с лат. путь скорби) теперь действительно описываются ради них самих.
Это, однако, тесно связано с тем, что с Иеремией пророчество вступило в критическую фазу своего существования, и что начала формироваться новая концепция пророка. Вероятно, первым, кто осознал, что страдания должны рассматриваться как неотъемлемая часть служения пророка, был Варух. Быть пророком - это нечто большее, чем просто говорить. Варух увидел совершенно новый аспект служения. Не только уста пророка, но и все его существо было поглощено служением пророчеству. Поэтому, когда жизнь пророка вступала в полосу глубоких страданий и богоугодной заброшенности, это становилось уникальным видом свидетельства.
Но даже это не означает, что в повествовательных частях Иеремии рассказ о жизни пророка дается ради него самого. Он приводится потому, что в данном случае его жизнь была впитана в его призвание пророка и стала неотъемлемой частью самого призвания. Но, как я уже подчеркивал, это понимание пришло лишь через некоторое время, и поэтому его следует рассмотреть на более позднем этапе.